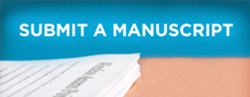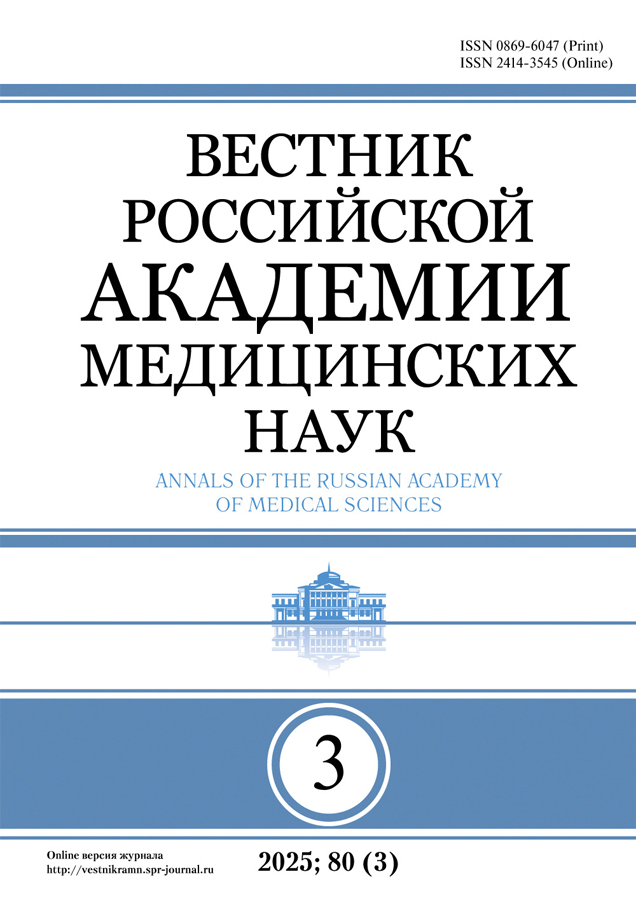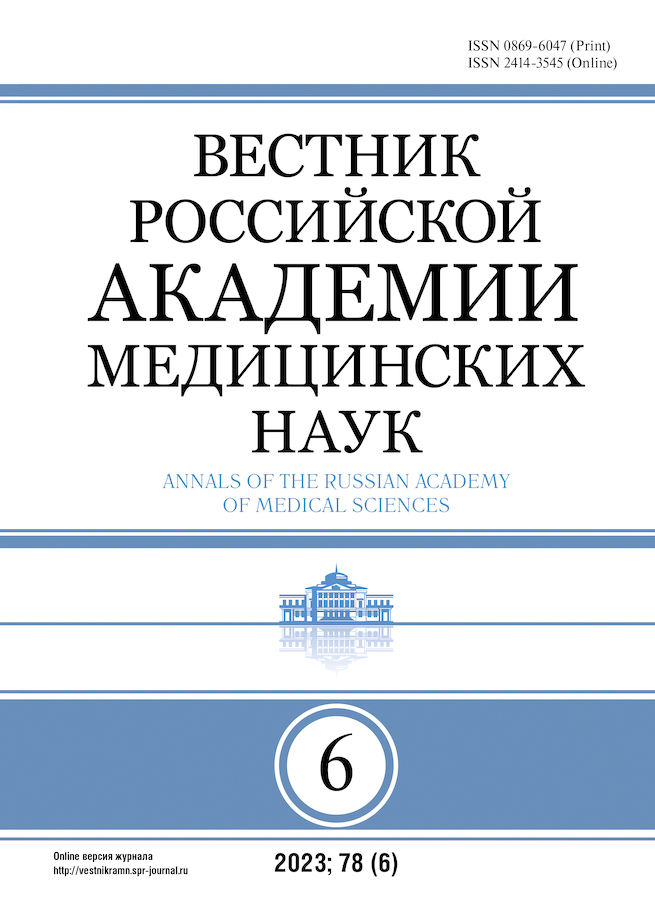Micro-RNAs in the Diagnosis of Cutaneous T-Cell Lymphomas
- Authors: Olisova O.Y.1, Amshinskaya J.R.1, Demkin V.V.2
-
Affiliations:
- I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
- Institute of Molecular Genetics of the National Research Center “Kurchatov Institute”
- Issue: Vol 78, No 6 (2023)
- Pages: 530-540
- Section: DERMATOLOGY and VENEROLOGY: current issues
- Published: 23.12.2023
- URL: https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/11612
- DOI: https://doi.org/10.15690/vramn11612
- ID: 11612
Cite item
Full Text
Abstract
Rationale. Early diagnosis of mycosis fungoides (MF), as the most common form of T-cell lymphoma, presents significant challenges. The diagnosis of MF is based on the following criteria: comprehensive assessment of the clinical picture of the disease, histological and immunohistochemical examination of the skin, and determination of rearrangement of the T-cell receptor gene, but even this does not always aid in diagnosis. The aim of the study is to investigate the expression of micro-RNAs (miR-223, -423, -663, -16, -326, -711) in the blood plasma and leukocytes of patients with a presumptive diagnosis of MF to improve the disease diagnosis. Methods. This study included 50 patients aged 24 to 79 years, of whom 30 patients had a preliminary diagnosis of MF and 20 patients with small plaque parapsoriasis, who formed the comparison group. All patients underwent histological, immunohistochemical examination of skin biopsies, and determination of micro-RNA (miR-223, -423, -663, -16, -326, -711) expression in blood plasma and leukocytes by real-time PCR. Results. Analyzing the results of clinical-anamnestic, histological, and immunohistochemical research methods, the diagnosis of MF was established in 22 of 30 (73.3%) patients, of which 9 of 14 (64.3%) were in the early stages of the disease. small plaque parapsoriasis. Conclusion. During our study, it was found that the studied micro-RNAs (miR-326, -663, -711, -223, -423, -16) in the blood plasma and leukocytes of patients with MF have statistically significant levels of expression compared to the low level of expression of these micro-RNAs in patients with small plaque parapsoriasis. The expression of micro-RNAs we studied in the skin contributes to the improvement of MF diagnosis with an accuracy of up to 90%.
Full Text
Обоснование
Диагностика грибовидного микоза (ГМ) осуществляется в соответствии с рекомендациями Международного общества по лимфомам кожи (ISCL), а также Европейской организации по изучению и лечению рака (EORTC), которые были разработаны для ГМ и синдрома Сезари.
Диагноз «Т-клеточная лимфома кожи» (ТКЛК) устанавливается на основании следующих критериев:
- комплексная оценка клинической картины заболевания;
- гистологическое исследование кожи с применением иммуногистохимических методов;
- определение реаранжировки гена Т-клеточного рецептора.
В качестве среднего срока, необходимого для установления диагноза у всех больных ГМ, включая его классическую форму, был определен период в 5 лет, который может быть существенно увеличен при альтернативных вариантах течения заболевания [1].
При дебюте ГМ диагностика затруднена. Это обусловлено клиническим сходством ГМ с воспалительными дерматозами, такими как экзема, псориаз, атопический дерматит, красный отрубевидный лишай Девержи, бляшечный парапсориаз и др. На пятнистой стадии ГМ диагностика показывает наименьшую информативность. Процент достоверности диагноза ГМ, который был подтвержден только клиническими, гистологическими и иммуногистохимическими методами исследования, не превышает 50–75%. Установление диагноза ГМ молекулярно-биологическим методом (с помощью ПЦР-исследования, в ходе которого идентифицируется реаранжировка гена Т-клеточного рецептора) на ранних стадиях (I–IIA) оценивается вероятностью ~50%, а на поздних стадиях (IIВ–IV) эта вероятность составляет уже 90%. Отсюда следует, что для ранней диагностики ГМ в настоящее время не существует надежных, более информативных или специфичных генетических маркеров [1, 2].
В последнее десятилетие резко увеличился рост заболеваний, связанных с изменениями в модификациях РНК. Инновационные методы, используемые для обнаружения паттернов молекулярной модификации, могут привести к улучшению диагностики и появлению новых средств для лечения различных заболеваний [3].
Микро-РНК (miR) представляют собой большую группу коротких, некодирующих молекул РНК, которые имеют длину около 22 нт и участвуют в посттранскрипционном контроле экспрессии генов [4]. Их действие завершается спариванием оснований с транскриптами матричной РНК (мРНК), которые охватывают целевые последовательности, что приводит к увеличению распада мРНК и/или трансляционного затухания [5]. Благодаря этому действию мРНК участвуют во многих физиологических процессах, и любые дерегуляции на этом уровне вызовут аномалии и дальнейшие заболевания человека [4]. Участие микро-РНК в патологических процессах позволило признать их потенциальными терапевтическими мишенями, а также будущими биомаркерами с диагностическим и/или прогностическим потенциалом [4, 6].
Материалы и методы
Дизайн исследования
Проведено одномоментное, сравнительное, нерандомизированное исследование.
Условия проведения
Исследование было проведено на базах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, а также ФГБУ «Институт молекулярной генетики» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Критерии соответствия
В данное исследование было включено 50 пациентов в возрасте от 24 до 79 лет, из них 30 пациентов были с предварительным диагнозом ГМ (пятнистая стадия — у 13 (43,3%), бляшечная — у 11 (36,7%), опухолевая — у 6 (20%) больных (основная группа)) и 20 пациентов с диагнозом «мелкобляшечный парапсориаз», составившие группу сравнения.
Описание медицинского вмешательства
Всем 50 больным для установления диагноза помимо клинического осмотра были проведены гистологические и иммуногистохимические исследования биоптатов кожи, взятых из очагов поражения. Исследование проводилось на базе Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета, а также ФГБУ НМИЦ гематологии.
Всем 30 пациентам основной группы и 20 пациентам группы сравнения проводилось определение микро-РНК (miR-326, -663b, -711, -223) в плазме крови и лейкоцитах до начала лечения пациентов (табл. 1, 2).
Таблица 1. Количественное описание микро-РНК в группе больных грибовидным микозом (30 человек)
Показатель | Размах варьирования | Среднее, M (95%-й ДИ) | Стандартное отклонение, SD | Медиана, Me (95%-й ДИ) | Коэффициент вариации, CV, % | |
Min | Max | |||||
mir-223L | 18,905 | 24,900 | 21,849 (21,397–22,304) | 1,279 | 22,153 (21,225–22,245) | 5,9 |
mir-423L | 21,865 | 27,910 | 24,131 (23,669–24,604) | 1,352 | 24,193 (23,540–24,910) | 5,6 |
mir-663L | 20,860 | 32,155 | 23,770 (22,979–24,621) | 2,354 | 22,999 (22,527–23,950) | 9,9 |
mir-16L | 11,150 | 16,015 | 13,131 (12,714–13,548) | 1,186 | 12,633 (12,410–13,571) | 9,0 |
mir-326L | 26,259 | 32,665 | 28,502 (27,971–29,037) | 1,527 | 28,123 (27,515–29,060) | 5,4 |
mir-711L | 30,210 | 35,360 | 31,736 (31,314–32,178) | 1,265 | 31,555 (31,160–32,250) | 4,0 |
mir-223P | 25,390 | 31,540 | 27,808 (27,216–28,394) | 1,694 | 27,315 (26,875–28,370) | 6,1 |
mir-423P | 23,215 | 33,635 | 27,714 (26,650–28,850) | 3,131 | 27,005 (26,265–29,113) | 11,3 |
mir-663P | 24,060 | 34,420 | 31,586 (30,710–32,392) | 2,381 | 32,296 (31,104–33,004) | 7,5 |
mir-16P | 14,540 | 22,330 | 17,245 (16,497–18,032) | 2,192 | 16,270 (16,048–17,373) | 12,7 |
mir-326P | 29,257 | 32,935 | 31,222 (30,847–31,591) | 1,063 | 31,210 (30,538–32,035) | 3,4 |
mir-711P | 33,065 | 37,850 | 35,280 (34,831–35,716) | 1,267 | 35,413 (34,945–35,920) | 3,6 |
Таблица 2. Количественное описание микро-РНК в группе сравнения (20 человек)
Показатель | Размах варьирования | Среднее, M (95%-й ДИ) | Стандартное отклонение, SD | Медиана, Me (95%-й ДИ) | Коэффициент вариации, CV, % | |
Min | Max | |||||
mir-223L | 19,170 | 27,632 | 21,056 (20,103–22,124) | 2,389 | 20,234 (19,950–21,000) | 11,3 |
mir-423L | 19,250 | 21,670 | 20,857 (20,616–21,104) | 0,577 | 20,859 (20,678–21,220) | 2,8 |
mir-663L | 20,935 | 28,390 | 22,150 (21,538–22,850) | 1,650 | 21,634 (21,307–22,413) | 7,4 |
mir-16L | 10,173 | 11,740 | 10,991 (10,765–11,199) | 0,510 | 11,120 (10,740–11,353) | 4,6 |
mir-326L | 26,418 | 30,810 | 27,931 (27,413–28,487) | 1,258 | 27,520 (27,220–28,560) | 4,5 |
mir-711L | 30,300 | 33,241 | 31,678 (31,372–31,977) | 0,705 | 31,683 (31,350–31,980) | 2,2 |
mir-223P | 22,430 | 26,075 | 24,395 (23,899–24,863) | 1,113 | 24,538 (23,537–25,265) | 4,6 |
mir-423P | 24,220 | 27,040 | 25,451 (25,035–25,870) | 0,970 | 25,310 (24,785–26,260) | 3,8 |
mir-663P | 24,900 | 31,877 | 29,059 (28,348–29,748) | 1,656 | 29,281 (28,261–29,931) | 5,7 |
mir-16P | 12,075 | 15,825 | 14,341 (13,935–14,743) | 0,954 | 14,313 (14,045–15,062) | 6,7 |
mir-326P | 32,085 | 34,945 | 33,690 (33,306–34,059) | 0,866 | 33,795 (33,370–34,240) | 2,6 |
mir-711P | 30,223 | 32,755 | 31,168 (30,881–31,481) | 0,707 | 31,085 (30,708–31,663) | 2,3 |
Методы регистрации исходов
Исследование проводилось методом ПЦР в режиме реального времени на приборе BioRadCFX 96 (Bio-Rad Laboratories, США).
Характеристика: ПЦР-микс содержит ПЦР-буфер (10 мМTrisHCLpH 8,3; 8% сахарозы; 50 mM KCl; 0,5% Tween 20; 3% формамид; 4 mM MgCl2 и 180 µM каждого из dNTP), а также олигонуклеотиды, меченый по Hex зонд и одну единицу Taq ДНК полимеразы (и образец кДНК). Концентрация в реакционной смеси праймеров и зонда — по 0,17 мкМ.
С помощью технологии ПЦР был проведен анализ циркулирующих микро-РНК (miR-326, -663, -711, -223, -423, -16) в плазме крови и лейкоцитах, что требует использования микропланшетов, в которых каждая лунка содержит специфические праймеры, разработанные в ООО «НАНОДИАГНОСТИКА».
При детекции микро-РНК применяли метод, основанный на использовании специфического праймера типа «стебель–петля», который осуществляет обратную транскрипцию микро-РНК, при этом удлиняет кДНК мишени. Образованная кДНК затем амплифицируется обычными праймерами в присутствии универсального зонда, меченого флуорофором. При амплификации мишени универсальный зонд гидролизуется с отщеплением флуорофора, что ведет к увеличению детектируемой флуоресценции примерно в 100 раз.
Количественная оценка микро-РНК определяется циклом реакции, при котором значение флуоресценции превосходит пороговый уровень. Таким образом, для разных проб можно получить относительную количественную оценку определенной микро-РНК.
Во всех постановках каждый образец ставился в двух точках. Для расчетов бралось среднее значение показаний прибора для этих двух точек.
Этическая экспертиза
Исследование одобрено в рамках диссертационной работы «Диагностическая значимость микро-РНК при Т-клеточных лимфомах кожи и разработка комбинированного метода лечения», заседание локального комитета по этике ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет) № 16-19 от 10.12.2019. При включении в исследование каждый пациент подписывал информированное согласие на участие в нем.
Статистический анализ
Статистический анализ данных был проведен посредством программ Statistica 10, GraphPad Prism 6. Предварительный расчет выборки не проводился. Использовались описательные методы статистики.
Результаты
В рамках обследования с диагностической целью всем пациентам с ГМ проводилось гистологическое и иммуногистохимическое исследование. В табл. 3 представлены частота встречаемости и характер основных изменений у пациентов с ГМ и группой сравнения (мелкобляшечный парапсориаз).
Таблица 3. Основные гистологические и иммуногистохимические характеристики пациентов и контрольной группы
Признак | Уровень признака | Группа 1 | Группа 2 | p-значение точного критерия Фишера двустороннее | Отношение шансов (есть/нет) | Коэффициент V Крамера | ||
Человек (95%-й ДИ) | Доля в численности группы, % (95%-й ДИ) | Человек (95%-й ДИ) | Доля в численности группы, % (95%-й ДИ) | |||||
Акантоз | Нет | 0 (0–3) | 0,0 (0–11,6) | 0 (0–3) | 0,0 (0–16,8) | 1,000 | — | — |
Есть | 30 (23–36) | 100,0 (88,4–100) | 20 (14–27) | 100,0 (83,2–100) | ||||
Паракератоз | Нет | 10 (5–16) | 33,3 (18,6–51,1) | 9 (5–15) | 45,0 (25,1 66,2) | 0,553 | 0,4 1,6 6,1 | 0,12 |
Есть | 20 (14–27) | 66,7 (48,9–81,4) | 11 (6–17) | 55,0 (33,8–74,9) | ||||
Обильный поверхностный полосовидный лимфоидный инфильтрат | Нет | 7 (3–13) | 23,3 (11,1–40,4) | 9 (5–15) | 45,0 (25,1–66,2) | 0,131 | 0,7 2,6 10,9 | 0,23 |
Есть | 23 (16–30) | 76,7 (59,6–88,9 | 11 (6–17) | 55,0 (33,8–74,9) | ||||
Атипичные лимфоциты с церебриформными ядрами (лимфоидная атипия) | Нет | 11 (6–17) | 36,7 (21,3–54,5) | 10 (5–16) | 50,0 (29,3–70,7) | 0,393 | 0,5 1,7 6,3 | 0,13 |
Есть | 19 (13–26) | 63,3 (45,5–78,7) | 10 (5–16) | 50,0 (29,3–70,7) | ||||
Эпидермотропизм | Нет | 7 (3–13) | 23,3 (11,1–40,4) | 8 (4–14) | 40,0 (21,1 61,6) | 0,228 | 0,5 2,2 9,0 | 0,18 |
Есть | 23 (16–30) | 76,7 (59,6–88,9) | 12 (7–19) | 60,0 (38,4–78,9) | ||||
Эпидермальные лимфоциты крупнее дермальных | Нет | 17 (11–24) | 56,7 (39,0–73,1) | 10 (5–16) | 50,0 (29,3–70,7) | 0,774 | 0,2 0,8 2,8 | 0,07 |
Есть | 13 (8–20) | 43,3 (26,9–61,0) | 10 (5–16) | 50,0 (29,3–70,7) | ||||
Диспропорциональный эпидермотропизм | Нет | 17 (11–24) | 56,7 (39,0–73,1) | 11 (6–17 | 55,0 (33,8–74,9) | 1,000 | 0,3 0,9 3,4 | 0,02 |
Есть | 13 (8–20) | 43,3 (26,9–61,0) | 9 (5–15) | 45,0 (25,1 66,2) | ||||
Тельца Сиватта | Нет | 18 (12–25) | 60,0 (42,2–76,0) | 20 (14–27) | 100,0 (83,2–100) | 0,001 | 2,5 - - | 0,46 |
Есть | 12 (7–19) | 40,0 (24,0–57,8) | 0 (0–3) | 0,0 (0,0–16,8) | ||||
Микроабсцессы Потрие | Нет | 13 (8–20) | 43,3 (26,9–61,0) | 10 (5–16) | 50,0 (29,3–70,7) | 0,774 | 0,4 1,3 4,7 | 0,07 |
Есть | 17 (11–24) | 56,7 (39,0–73,1) | 10 (5–16) | 50,0 (29,3–70,7) | ||||
Периваскулярные инфильтраты | Нет | 4 (1–9) | 13,3 (4,7–28,7) | 9 (5–15) | 45,0 (25,1–66,2) | 0,021 | 1,1 5,1 27,9 | 0,35 |
Есть | 26 (19–33) | 86,7 (71,3–95,3) | 11 (6–17) | 55,0 (33,8–74,9) | ||||
СD3 эпидермис | Нет | 1 (0–4) | 3,3 (0,4–14,5) | 12 (7–19) | 60,0 (38,4–78,9) | 1,1Ч | 4,7 40 1897 | 0,63 |
Есть | 29 (22–35) | 96,7 (85,5–99,6) | 8 (4–14) | 40,0 (21,1–61,6) | ||||
СD4 эпидермис | Нет | 1 (0–4) | 3,3 (0,4–14,5) | 4 (1–9) | 20,0 (7,2–40,8) | 0,143 | 0,6 7,0 368,2 | 0,27 |
Есть | 29 (22–35) | 96,7 (85,5–99,6) | 16 (10–23) | 80,0 (59,2–92,8) | ||||
СD5 эпидермис | Нет | 19 (13–26) | 63,3 (45,5–78,7) | 13 (8–20) | 65,0 (43,2–82,8) | 1,000 | 0,3 1,1 4,2 | 0,02 |
Есть | 11 (6–17) | 36,7 (21,3–54,5) | 7 (3–13) | 35,0 (17,2–56,8) | ||||
СD7 эпидермис | Нет | 10 (5–16) | 33,3 (18,6–51,1) | 12 (7–19) | 60,0 (38,4–78,9) | 0,085 | 0,8 2,9 11,4 | 0,26 |
Есть | 20 (14–27) | 66,7 (48,9–81,4) | 8 (4–14) | 40,0 (21,1–61,6) | ||||
СD8 эпидермис* | Нет | 17 (11–24) | 56,7 (39,0–73,1) | 3 (1–8) | 15,0 (4,4–34,9) | 0,004 | 1,6 7 46 | 0,42 |
Есть | 13 (8–20) | 43,3 (26,9–61,0) | 17 (11–24) | 85,0 (65,1–95,6) | ||||
CD45RO эпидермис | Нет | 2 (0–6) | 6,7 (1,4–19,7) | 3 (1–8) | 15,0 (4,4–4,9) | 0,377 | 2,4 (0,3–31,8) | –0,14 |
Есть | 28 (21–35) | 93,3 (80,3–98,6) | 17 (11–24) | 85,0 (65,1–95,6) | ||||
На основании проведенного исследования были выявлены статистически значимые гистологические отличия ГМ, к которым относились:
1) паракератоз, р = 0,025;
2) лимфоидный инфильтрат, р = 0,012;
3) диспропорциональный эпидермотропизм, р = 0,037;
4) наличие телец Сиватта (округлые гомогенные эозинофильные образования), р = 0,035;
5) периваскулярные инфильтраты, р = 0,013.
Стоит отметить, что гистологическая картина была сомнительной практически у половины пациентов — у 15 (48%) больных с ГМ, из них — у 8 больных пятнистой и у 4 — бляшечной стадиями ГМ, а также подозрительной — у 7 (36,8%) из группы контроля.
При анализе иммуногистохимической картины всего при ГМ у 13 пациентов отмечалась экспрессия маркера цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+, что составляет 42% случая. В то время как в группе контроля экспрессия маркера цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+ выявлена у подавляющего большинства пациентов — 17 (89%) больных. При попарном сравнении методом Краскела–Уоллиса выраженности экспрессии маркера цитотоксических Т-лимфоцитов CD8+ между группами были выявлены статистически значимые отличия между группой пациентов с пятнистой стадией и группой контроля (р < 0,001).
У 23 пациентов с ГМ в эпидермисе и дерме определялась выраженная экспрессия маркера Т-хелперов CD4 (при пятнистой стадии ГМ — у 5 пациентов, при бляшечной — у 11, при опухолевой — у 6); у 8 пациентов с ГМ — умеренно выраженная экспрессия маркера Т-клеток памяти CD45RO. Статистически значимых отличий с группой контроля выявлено не было. Экспрессия маркера Т-хелперов CD4 у пациентов из группы контроля отмечалась в 14 (73,7%) случаях.
У 20 пациентов с ГМ была отмечена положительная реакция на ранний маркер Т-лимфоцитов CD7: умеренно выраженная в дерме — у 12 пациентов, резко выраженная в эпидермисе — у 8 пациентов с ГМ.
У 8 пациентов из группы контроля с МБП (мелкобляшечный парапсориаз) определялась умеренно выраженная экспрессия CD45RO+: у 5 больных она была выявлена только в дерме, а у 3 пациентов — в эпидермисе и дерме.
Экспрессия маркера CD7 выявлена у 8 (42%) больных из группы контроля и у 20 (64,5%) пациентов из группы с ГМ, при МБП — во всех слоях кожи в Т-лимфоцитах, располагавшихся преимущественно в поверхностном полосовидном дермальном инфильтрате.
Положительная реакция на CD5+ отмечалась у 7 пациентов из группы контроля и у 11 — с ГМ.
У пациентов обеих групп экспрессия расценивалась как умеренно выраженная и определялась преимущественно в Т-лимфоцитах эпидермиса и слабо выраженная — в дерме.
Для совершенствования диагностики ГМ проводилось изучение микро-РНК-223, -423, -663, -16, -326, -711 в плазме крови и лейкоцитах пациентов с ГМ по сравнению с группой сравнения (табл. 4). Выявлены статистически значимые отклонения микро-РНК у пациентов с ГМ (см. табл. 4).
Таблица 4. Результаты расчета вероятности соответствия нулевой гипотезе (группы 1 и 2)
Показатель | Статистические оценки с 95%-ми ДИ | p-значение двустороннее перестановочное | Средние / медианные* значения в группах с 95%-м ДИ | |||
Среднее/медианное* значение в группе | Разность средних / медиан* | Стандартизированный эффект по Коэну / бисериальный коэффициент корреляции* | ||||
1, M1 | 2, M2 | |||||
mir223L* | 21,849 (21,397–22,304) | 21,056 (20,103–22,124) | 0,794 (–0,19–2,013) | 0,4 (–0,1–1,0) | 0,138 | |
22,153 (21,225–22,245) | 20,234 (19,950–21,000) | 1,503 (0,655–2,062) | 0,2 (0,2–1,4) | 0,005 | ||
mir423L | 24,131 (23,669–24,604) | 20,857 (20,616–21,104) | 3,274 (2,712–3,836) | 3,2 (2,3–4,0) | 0,0001 | |
mir663L* | 23,770 (22,979–24,621) | 22,150 (21,538–22,850) | 1,619 (0,509–2,724) | 0,8 (0,2–1,4) | 0,007 | |
22,999 (22,527–23,950) | 21,634 (21,307–22,413) | 1,353 (0,620–2,160) | 0,3 (0,2–0,8) | 0,001 | ||
mir16L | 13,131 (12,714–13,548) | 10,991 (10,765–11,199) | 2,140 (1,646–2,592) | 2,3 (1,6–3,1) | 0,0001 | |
mir326L | 28,502 (27,971–29,037) | 27,931 (27,413–28,387) | 0,571 (–0,257–1,399) | 0,4 (–0,2–1,0) | 0,166 | |
mir711L | 31,736 (31,314–32,178) | 31,678 (31,372–31,977) | 0,058 (–0,504–0,621) | 0,1 (–0,5–0,6) | 0,85 | |
mir223P | 27,808 (27,216–28,394) | 24,395 (23,899–24,863) | 3,413 (2,661–4,152) | 2,3 (1,6–3,0) | 0,0001 | |
mir423P | 27,714 (26,650–28,850) | 25,451 (25,035–25,870) | 2,263 (1,078–3,417) | 0,9 (0,3–1,5) | 0,0028 | |
mir663P* | 31,586 (30,710-32,392) | 29,059 (28,348-29,748) | 2,526 (1,464-3,646) | 1,2 (0,6-1,8) | 0,0004 | |
32,296 (31,104-33,004) | 29,281 (28,261-29,931) | 2,884 (1,795-3,888) | 0,4 (0,2-0,8) | 0,0002 | ||
mir16P* | 17,245 (16,497-18,032) | 14,341 (13,935-14,743) | 2,905 (1,997-3,750) | 1,6 (1,0-2,3) | 0,0001 | |
16,270 (16,048-17,373) | 14,313 (14,045-15,062) | 2,217 (1,560-3,256) | 0,8 (0,2-0,9) | 0,0001 | ||
mir326P | 31,222 (30,847-31,591) | 33,690 (33,306-34,059) | 2,468 (1,953-3,006) | 2,5 (1,7-3,2) | 0,0001 | |
mir711P | 35,280 (34,831-35,716) | 31,168 (30,881-31,481) | 4,112 (3,571-4,643) | 3,8 (2,9-4,7) | 0,0001 | |
Пациенты с ГМ были подразделены на три подгруппы согласно клиническим стадиям заболевания: пятнистая — N = 13 (43%); бляшечная — N = 11 (36%); опухолевая — N = 6 (20%), однако различий по экспрессии микро-РНК в выделенных группах установлено не было.
Учитывая выявление статистически значимых отличий микро-РНК в плазме и лейкоцитах у пациентов с ГМ по сравнению с группой сравнения, в нашем исследовании был проведен ROC-анализ взаимосвязи микро-РНК и ГМ, а также определены пороговые значения микро-РНК в точках с наибольшей чувствительностью и специфичностью, при которых прогнозировался высокий риск ГМ (табл. 5). Также определялась прогностическая значимость изменения массы тела в процентах по результатам ROC-анализа с указанием чувствительности (доли истинно положительных результатов) и специфичности (доли ложноотрицательных результатов) проводимого теста. Для микро-РНК была проведена качественная оценка эффекта различий по Коэну, далее для микро-РНК, которые показали умеренный, сильный и очень сильный эффект различий, был проведен ROC-анализ [26].
Таблица 5. Дагностические характеристики изученных микро-РНК
Тест | Оптимальная точка отсечения | Площадь под ROC-кривой, AUC с 95%-м ДИ | Статистическая значимость AUC, p | Общее качество классификации |
mir423L | 21,768 | 1,000 (1,000–1,000) | 0 | 1 |
mir711P | 32,910 | 1,000 (1,000–1,000) | 0 | 1 |
mir16L | 11,793 | 0,985 (0,915–1,000) | 1,3•10–215 | 0,95 |
mir223P | 25,778 | 0,977 (0,921–0,996) | 5,2•10–201 | 0,94 |
mir16P | 15,395 | 0,960 (0,887–0,990) | 1,2•10–87 | 0,91 |
mir326P | 32,948 | 0,963 (0,865–0,990) | 2,2•10–88 | 0,92 |
Площадь под ROC-кривой, соответствующей взаимосвязи miR-223 и ТКЛК, составила 0,795 ± 0,075 (95%-й ДИ: 0,647–0,942). Полученная модель оказалась статистически значимой (p = 0,002). Пороговое значение miR-223 в точке отсечения составило 25,3. При miR-223, равном или превышающем данное значение, прогнозировался высокий риск ГМ. Чувствительность и специфичность метода составили соответственно 84,0 и 66,7% (рис. 1).
Рис. 1. ROC-кривая, соответствующая взаимосвязи miR-223 и грибовидного микоза
Площадь под ROC-кривой, соответствующей взаимосвязи ГМ и miR-16, составила 0,771 ± 0,073 (95%-й ДИ: 0,662–0,914). Полученная модель оказалась статистически значимой (p = 0,005). Пороговое значение miR-16 в точке cut-off составило 15,4. При miR-16, равном или превышающем данное значение, прогнозировался высокий риск ТКЛК. Чувствительность и специфичность метода составили соответственно 72,0 и 73,3% (рис. 2).
Рис. 2. ROC-кривая, соответствующая взаимосвязи miR-16 и грибовидного микоза
Пороговое значение miR-326 в точке cut-off составило 32,2. При miR-326 в плазме, равном или ниже данного значения, прогнозировался более высокий риск ранней стадии ГМ по сравнению со здоровыми пациентами. Чувствительность и специфичность метода составили соответственно 90,5 и 88,9%.
Площадь под ROC-кривой, соответствующей взаимосвязи ГМ и miR-711 в плазме, составила 0,894 ± 0,065 (95%-й ДИ: 0,767–0,918). Полученная модель оказалась статистически значимой (p = 0,001). Пороговое значение miR-711 в точке отсечения составило 33,2. При miR-711 в плазме, равном или превышающем данное значение, прогнозировался более высокий риск ГМ по сравнению с пациентами с мелкобляшечным парапсориазом. Чувствительность и специфичность метода составили соответственно 81 и 100% (рис. 3).
Рис. 3. ROC-кривая, соответствующая взаимосвязи miR-711 и грибовидного микоза
В нашем исследовании показано, что прогнозировался высокий риск развития ГМ по сравнению с группой пациентов с мелкобляшечным парапсориазом при следующих изменениях в плазме:
- miR-223, равном или превышающем 25,3;
- miR-16, равном или превышающем 15,4;
- miR-711, равном или превышающем 33,2;
- miR-326, равном или ниже 32,2.
Также прогнозировался высокий риск развития ГМ по сравнению с группой сравнения при таких изменениях в лейкоцитах, как:
- miR-16, равном или превышающем 11,6 (чувствительность — 81,0%; специфичность — 88,9%);
- miR-423, равном или превышающем 21,7 (чувствительность — 71,4%; специфичность — 88,9%).
Анализируя результаты проведенного клинико-анамнестического, гистологического и иммуногистохимического методов исследования, диагноз ГМ, согласно данным нашего исследования, был установлен у 22 (73,3%) из 30 пациентов, из них у 9 (64,3%) из 14 — на ранней стадии заболевания по классификации WHO–EORTC. Уровень экспрессии микро-РНК, превышающий пороговую величину точки отсечения, подтверждает диагноз ГМ у всех 30 пациентов. Так, микро-РНК-223, -423, -663, -16, -326, -711 в плазме крови и лейкоцитах у пациентов с ГМ существенно отличаются от аналогичных показателей группы сравнения.
Обсуждение
В недавнее время в качестве диагностически значимого признака при дифференциальной диагностике между доброкачественными и злокачественными дерматозами стали отмечать уровень экспрессии некоторых микро-РНК: микро-РНК-155, -21, -22. При ТКЛК в очагах поражения наблюдалась повышенная экспрессия микро-РНК-155. Также известно, что экспрессия микро-РНК-155 регулируется посредством активации сигнального пути STAT5. Ввиду того что микро-РНК-155 обладает проонкогенными свойствами, которые способны стимулировать процесс пролиферации опухолевых клеток, есть основания полагать, что она служит «мостом» между онкопролиферативными и доброкачественными воспалительными процессами [13, 14].
Данные литературы свидетельствуют, что, несмотря на комплексный подход в диагностике ГМ, среднее время от появления симптомов до постановки диагноза составляет 3–4 года и может превышать четыре десятилетия, что влияет на дальнейший прогноз и течение заболевания. Таким образом, вопрос о ранней диагностике ГМ сохраняет свою актуальность [10, 15].
Целью нашего исследования является изучение микро-РНК в плазме крови и лейкоцитах у больных с предположительным диагнозом ГМ и больных мелкобляшечным парапсориазом в группе сравнения [16–18].
Исследования, посвященные анализу экспрессии микро-РНК в образцах от пациентов с ТКЛК, начались относительно недавно. Первые исследования строились по принципу широкопрофильного скринингового изыскания, т.е. когда оценке подвергается весь или очень широкий спектр известных на момент исследования микро-РНК. Такому подходу хорошо соответствуют технологии гибридизации на микрочипах, так как они позволяют оценивать сразу большие массивы микро-РНК и выявлять среди них мишени с дифференциальной экспрессией при различных формах КТЛК [12–14].
В пионерской работе, используя гибридизацию на микрочипах, проанализировали профиль микро-РНК в CD4+ Т-клетках периферической крови у 21 пациента с синдромом Сезари. Показано, что он существенно отличается от такового в контрольной группе здоровых людей, а также у лиц с В-клеточными лимфомами [16]. Было идентифицировано 114 микро-РНК, ассоциированных с синдромом Сезари, из которых 10 демонстрировали повышенную экспрессию, а большинство — сниженную. Впоследствии аналогичные исследования были проведены с разными формами ТКЛК. В целом во всех работах были выявлены группы микро-РНК с повышенной (индуцированной) и пониженной (супрессированной) экспрессией по отношению к контрольным клеткам здоровых доноров либо больных другими формами заболевания [17, 18].
В нашей работе впервые проведено исследование микро-РНК в лейкоцитах и выделены микро-РНК в плазме и лейкоцитах, которые имеют высокую чувствительность и специфичность при диагностике ГМ по сравнению с группой сравнения.
Нами исследованы шесть микро-РНК в плазме крови и лейкоцитах, которые, по данным литературы, имели наибольшую информативность при ГМ. Такие микро-РНК, как miR-423 и miR-16 в лейкоцитах, miR-711, -223, -16, -326 в плазме крови, по результатам исследования показали приемлемые характеристики прогнозирования ГМ независимо от стадии заболевания.
В своем исследовании R. Mardani et al. продемонстрировали, что повышение микро-РНК-16 в коже может играть онкогенную роль, способствующую прогрессированию заболевания, и его повышение можно использовать в качестве возможного прогностического маркера, который поможет выявить пациентов, которые более склонны к прогрессированию заболевания [19, 20].
Функция микро-РНК-711 доподлинно не известна, однако в исследовании Q. Han, D. Liu показано, что микро-РНК-711 может быть связана с возникновением сильного зуда у пациентов с ТКЛК [21, 22].
По данным литературы, функция таких микро-РНК, как -423, -16, -711, -223 и -326, при ГМ недостаточно понятна, однако экспрессия изучаемых нами микро-РНК в коже может помочь установить диагноз ГМ с точностью до 90% [23–25].
Выводы
Показан увеличенный уровень экспрессии микро-РНК-326, -663, -711, -223, -423, -16 в плазме крови и лейкоцитах больных ГМ по сравнению с экспрессией у больных мелкобляшечным парапсориазом. Экспрессия изучаемых нами микро-РНК в коже способствует совершенствованию диагностики ГМ с точностью до 90% и может быть рекомендована для использования в клинической практике врачей — дерматологов, гематологов и онкологов.
Дополнительная информация
Финансирование работы. Исследование осуществлялось за счет бюджетного финансирования по месту работы авторского коллектива.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с публикацией настоящей статьи.
Участие авторов. О.Ю. Олисова — общее руководство; Д.Р. Амшинская — сбор и анализ данных; В.В. Демкин — лабораторная диагностика. Все авторы согласны нести ответственность за все аспекты работы, чтобы обеспечить надлежащее рассмотрение и решение всех возможных вопросов, связанных с корректностью и надежностью любой части работы.
About the authors
Olga Yu. Olisova
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Author for correspondence.
Email: olisovaolga@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2482-1754
MD, PhD, Professor, Corresponding Member of the RAS
Russian Federation, MoscowJessika R. Amshinskaya
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University)
Email: dr.jessika@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3907-2189
PhD Student
Russian Federation, MoscowVladimir V. Demkin
Institute of Molecular Genetics of the National Research Center “Kurchatov Institute”
Email: vdemkin@img.ras.ru
ORCID iD: 0000-0002-3408-6100
MD, PhD
Russian Federation, MoscowReferences
- Воронцова А.А., Карамова А.Э., Знаменская Л.Ф. Современные представления о патогенезе грибовидного микоза // Онкогематология. — 2018. — Т. 13. — № 3. — С. 39–46. [Vorontsova АА, Karamova EА, Znamenskaya LF. Modern concepts of the mycosis fungoides pathogenesis. Onkogematologiya = Oncohematology. 2018;13(3):39–46. (In Russ.)] doi: https://doi.org/10.17650/1818-8346-2018-13-3-39-46
- Hodak E, Amitay-Laish I. Mycosis fungoides: a great imitator. Clin Dermatol. 2019;37(3):255–267. doi: https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2019.01.004
- Жуков А.С., Белоусова И.Э., Самцов А.В. Иммунологические и молекулярно-генетические механизмы развития грибовидного микоза // Вестник дерматологии и венерологии. — 2015. — Т. 91. — № 4. — С. 42–50. [Zhukov AS, Belousova IE, Samtsov AV. Immunological and molecular genetic mechanisms of the development of mycosis fungoides. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 2015;91(4):42–50. (In Russ.)]
- Quinodoz S, Guttman M. Long noncoding RNAs: an emerging link between gene regulation and nuclear organization. Trends Cell Biol. 2014;24(11):651–663. doi: https://doi.org/10.1016/j.tcb.2014.08.009
- Campbell JJ, Clark R, Watanabe R, et al. Sezary syndrome andmycosis fungoides arise from distinct T-cell subsets: a biologic rationale for their distinct clinical behaviors. Blood. 2010;116(5):767–771. doi: https://doi.org/10.1182/blood-2009-11-251926
- Girardi M, Edelson RL. Cutaneous T-cell lymphoma: pathogenesis and treatment. Oncology (Williston Park). 2000;14(7):1061–1070.
- Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Деловой экспресс, 2016. — 768 с. [Dermatovenerologiya: federal’nye klinicheskie rekomendacii. 2015: Bolezni kozhi. Infekcii, peredavaemye polovym putem. 5-e izd., pererab. i dop. Moscow: Delovoj ekspress; 2016.768 р. (In Russ.)]
- Виноградова Ю.Е., Зингерман Б.В. Нозологические формы и выживаемость пациентов с Т- и НК-клеточными лимфатическими опухолями, наблюдающихся в ГНЦ в течение 10 лет // Клиническая онкогематология. — 2011. — T. 4. — № 3. — C. 201–212. [Vinogradova YuE, Zingerman BV. Nosological forms and survival of patients with T- and NK-cell lymphoid neoplasms observed in HSC during 10 years. Clinical Oncohematology. 2011;4(3):201–212. (In Russ.)]
- Jawed SI, Myskowski PL, Horwitz S, et al. Primary cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides and Sézary syndrome): part I. Diagnosis: clinical and histopatho logic features and new molecular and bio logic markers. J Am Acad Dermatol. 2014;70(2):205.е1–16. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2013.07.049
- Moyal L, Feldbaum N, Goldfeiz N, et al. The Therapeutic Potential of AN-7, a Novel Histone Deacetylase Inhibitor, for Treatment of Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome Alone or with Doxorubicin. PLoS One. 2016:11(1):e0146115. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.01461151
- Benjamin Chase A, Markel K, Tawa MC. Optimizing care and compliance for the treatment of mycosis fungoides cutaneous T-cell lymphoma with mechlorethamine gel. Clin J Oncol Nurs. 2015;19(6):Е131–139. doi: https://doi.org/10.1188/15.CJON.E131-E139
- Olisova OY, Grekova EV, Zaletaev DV, et al. Overexpression of STAT4 at early stages of mycosis fungoides: Coincidence or not? Australas J Dermatol. 2021;62(1):e119–e120. doi: https://doi.org/10.1111/ajd.13420
- Shen X, Wang B, Li K, et al. MicroRNA Signatures in Diagnosis and Prognosis of Cutaneous T-Cell Lymphoma. J Invest Dermatol. 2018;138(9):2024–2032. doi: https://doi.org/10.1016/j.jid.2018.03.1500
- Kozomara A, Griffiths-Jones S. miRBase: integrating microRNA annotation and deep-sequencing data. Nucleic Acids Res. 2018;39(Database issue):D152–157. doi: https://doi.org/10.1093/nar/gkq1027
- Zackheim HS, McCalmont TH. Mycosis fungoides: the great imitator. J Am Acad Dermatol. 2002;47(6):914–918. doi: https://doi.org/10.1067/mjd.2002.124696
- Peterson SM, Thompson JA, Ufkin ML, et al. Common features of microRNA target prediction tools. Front Genet. 2014;5:23. doi: https://doi.org/10.3389/fgene.2014.00023
- Sadakierska-Chudy A. MicroRNAs: Diverse Mechanisms of Action and Their Potential Applications as Cancer Epi-Therapeutics. Biomolecules. 2020;10(9):1285. doi: https://doi.org/10.3390/biom10091285
- Wong HK, Mishra A, Hake T, et al. Evolving insights in the pathogenesis and therapy of cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides and Sezary syndrome). Br J Haematol. 2011;155(2):150–166. doi: https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2011.08852.x
- Mardani R, Jafari Najaf Abadi MH, Motieian M, et al. Micro RNA in leukemia: Tumor suppressors and oncogenes with prognostic potential. J Cell Physiol. 2019;234(6):8465–8486. doi: https://doi.org/10.1002/jcp.27776
- Chen HN, Liu CM, Yang H, et al. 5-Aminolevulinic acid induces apoptosis via NF-κB/JNK pathway in human oral cancer Ca9-22 cells. J Oral Pathol Med. 2011;40(6):483–490. doi: https://doi.org/10.1111/j.1600-0714.2010.00973.x
- Ralfkiaer U, Hagedorn PH, Bangsgaard N, et al. Diagnostic microRNA profiling in cutaneous T-cell lymphoma (CTCL). Blood. 2011;118(22):5891–5900. doi: https://doi.org/10.1182/blood-2011-06-358382
- Olivo M, Ali-Seyed M. Apoptosis-signalling mechnisms in human cancer cells induced by Calphostin-PDT. Int J Oncol. 2007;30(3):537–548.
- Phillips DC, Woollard KJ, Griffiths HR. The anti-inflammatory actions of methotrexate are critically dependent upon the production of reactive oxygen species. Br J Pharmacol. 2003;138(3):501–511. doi: https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0705054
- DeSimone JA, Guenova E, Carter JB, et al. Low-dose high-dose-rate brachytherapy in the treatment of facial lesions of cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol. 2013;69(1):61–65. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaad.2012.12.975
- Garibyan L, Cotter SE, Hansen JL, et al. Palliative treatment for in-transit cutaneous metastases of Merkel cell carcinoma using surface/mold computer-optimized high-dose-rate brachytherapy. Cancer J. 2013;19(4):283–287. doi: https://doi.org/10.1097/PPO.0b013e31829e3566
- Статистический анализ таблиц 2×2 в диагностических исследованиях / авт.-сост. А.В. Тишков и др. — СПб.: СПбГМУ, 2013. — 17 с. [Statistical Analysis of 2×2 Tables in Diagnostic Studies. Author-comp. A.V. Tishkov et al. St. Petersburg: SPbSMU; 2013. 17 p. (In Russ.)]
Supplementary files